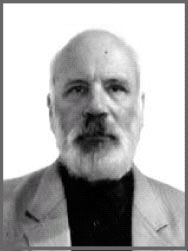
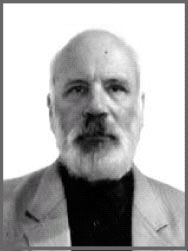
кандидат философских наук, профессор Российского Православного университета имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ
Религиозное образование сегодня у нас не запрещено, но в общей системе народного просвещения ему отводится такое ничтожное место, что оно практически не влияет на то, каким воспитывается наше молодое поколение. В подавляющем большинстве средних учебных заведений не преподается ни Закон Божий, ни какой-то его эквивалент, а вузах, если и читается курс религиоведения, то факультативно, да и то лишь в гуманитарных. Современная цивилизация не считает, что религиозное образование представляет для нее какую-то ценность и откровенно им пренебрегает. А ведь именно оно в первую очередь должно именоваться “просвещением”.
Что, собственно, есть религия, на которую современность смотрит как на что-то, может быть, трогательное, но безнадежно устаревшее? Суть религии точно передается этимологией этого слова: “религия” в переводе с латинского означает “восстановление связи”. Связи с чем? С тем невидимым миром? который находится где-то бок о бок с нашим — с нематериальной действительностью, таинственно взаимодействующей с материальной, одним словом, с инобытием. Поэтому отношение к религии и оценка ее практической полезности зависит от того, нужна или не нужна человеку такая связь. Когда-то люди были убеждены что она очень им нужна, но по мере наступления “прогресса” мы перестали видеть в ней необходимость и даже пришли к заключению, что никакой невидимой реальности не существует, а поэтому устанавливать связь не с чем.
Однако сейчас, в начале третьего тысячелетия новой эры, появились признаки того, что наши предки были более правы, чем мы. Все нынче стало свидетельствовать об этом: и глобальные кризисы разного рода, и объективные данные новейшей науки, и непреоборимое распространение по всему земному шар так называемого “фундаментализма”, который является ничем иным, как принимающим необычные зачастую крупные формы богоискательством, противопоставляющим себя всеобщему религиозному одичанию. Постхристианская культура, зародившаяся около пятисот лет назад и окрыленная Реформацией и Французской революцией, должна признать свое поражение. Воображая, что она победно шествует вперед, она все э товрмя двигалась назад к неминуемому краху и позору, и теперь, когда это становится все более очевидным, надеяться, что все как-то обойдется и всемирно катастрофы не произойдет — значит трусливо прятать голову в песок.
Вектор Всемирной истории
Вглядываясь в прошлое, роясь в источниках, изучая и систематизируя события былых времен, всегда хочется обнаружить в происходившем какую-то сквозную логику, увидеть своим внутренним взором ту указательную стрелку, которая показывает ход совокупной жизни людского рода. В зависимости от того, куда исследователи считали направленной эту стрелку, возникали в исторической науке различные школы и течения. Но с середины XVII века европейские историки, социологи и популяризаторы стали приходить к более или менее единому мнению на этот счет. Продолжая спорить о частностях, они согласились между собою в принципиальном: вектором, указывающий путь развития человечества, является прогресс.
Что же понималось под этим словечком, пущенным в обиход министром финансов Людовика XVI бароном Тюрго и вскоре ставшим самым употребляемым термином в Европе? Понятие прогресса включало в себя две составляющих: усиление власти человека над природой, то есть развитие науки, техники и технологии, и общую гуманизацию и либерализацию жизни — как говорили прежде, “смягчение нравов”. Убеждение в том, что это действительно главное русло реки времен было настолько твердым, что отдельные возражения против такого взгляда, высказываемые, например, Алексеем Хомяковым или Константином Леонтьевым, просто не принимались в расчет, не переводились на другие языки и оставались фактически никому не известными.
Повторим: полемика была (как гуманитариям не полемизировать!), но она велась внутри презумпции прогресса. Кто-то считал главнейшей первую составляющую, провозглашая ее “базисом”, а второй отводя роль “надстройки” (Маркс); кто-то придерживался обратного мнения, придавая первенствующее значение второй составляющей, а в первой видя нечто производное (Гегель), но, несмотря на впечатление взаимной вражды, это был “домашний старый спор, уж взвешенный судьбою”. Однако верность историософских теорий устанавливается не по числу их сторонников, а проверяется временем, показывающим, была ли в них прогностическая сила. В конце двадцатого века стало бесспорным фактом, что прогнозы теоретиков прогресса не оправдались. Да, развитие научной технологии шло нарастающими темпами, но вместо ожидаемого рая это грозит сделать планету адом, ибо вышедшее из-под контроля человека производство товаров ведет уже к потеплению климата и другим экологическим угрозам, а что касается “смягчения нравов”, то тут остается только усмехнуться. Двадцатый век, на который гуманисты возлагали столько упований, оказался самым кровавым за всю историю человечества, и пытки не только не ушли из следовательской практики, что обязательно должно было произойти по учению о прогрессе, но и превзошли по своей жестокости то, что применяли к своим жертвам римские преторы, испанские инквизиторы и заплечных дел мастера средневековых феодалов. Никогда еще не было таких масштабных зверств, как те, которые практиковались в подвалах ЧК, пыточных гестапо и застенках латиноамериканских хунт; никогда прежде не могло случиться такого, чтобы треть населения была забиты палками, как это произошло в Камбодже при Пол Поте, где считали слишком большой расточительностью тратить на каждого убиваемого оружейный патрон. Неужели после всего этого найдется здравомыслящий человек, который станет говорить о прогрессе как о столбовой дороге истории? Думается, эта точка зрения должна быть наконец признана ошибочной и раз и навсегда ее следует отвергнуть, как были отвергнуты теория вихрей Декарта или теория флогистона.
Но фиаско конкретной модели целенаправленной человеческой истории не означает, что целенаправленности в истории вообще не было. Душа настоящего ученого не может примириться с мыслью, что в мире господствует случайность, что у людского племени нет никакого космического задания. Даже такой диалог “многополярного мира”, как Арнольд Тойнби, считавший, что “умопостигаемое поле исторического исследования” можно раздвигать лишь до объема отдельной цивилизации, но не дальше, вопреки собственной установке все же пытался постичь как нечто единое всемирную историю в целом, взглянув на нее как “на божественное творение, исходящее в движении от божественного источника к божественной цели”.
Эти слова английского мыслителя указывают нам нужный подход к постижению истории. Но мы обязаны пойти дальше Тойнби. Хотя он был верующим христианином, и это давало ему преимущество над историками-атеистиами, надо учитывать, каким было его христианство — это был протестантизм. Это верование отличается от нашего, в частности, тем, что в нем отводится гораздо более значительная роль предопределению в отношении спасения или гибели человека, которое Бог, якобы, устанавливает еще до его рождения (у Кальвина такое предопределение абсолютно жестко). Как и мы, протестанты убеждены, что “история пишется на небесах”, но православные добавляют к этому: “но осуществляется написанное в конкретной последовательности событий при нашем активном участии”. Пишется-то она Богом, но делается совместно Богом и человеком. Это различие в миропонимании ведет к существенному различию в историософии. Протестант Тойнби как разгадчик истории остановился на цивилизационном уровне, предоставив всечеловеческий уровень непостижимой Господней воле; православный исследователь должен дерзнуть вторгнуться своей мыслью и сюда, потому что без понимания полного смысла исторического процесса нельзя правильно в него вписаться, а в этом, согласно нашей вере, как раз и заключается главное задание человека.
Чтобы проникнуть в тайну истории, нужно пробовать разные ключи. Ключик “прогресса” явно оказался непригодным. Давайте посмотрим, не подойдет ли альтернативный ключ, которым мы так долго пренебрегали. Предположим, что заданный свыше вектор истории указывает в сторону не материального, а духовного совершенствования, в сторону постоянного возрастания религиозной грамотности, то есть расширения и уточнения знаний о потустороннем мире и установления с ним все более осознанных и плодотворных связей. Приняв эту новую, а скорее хорошо забытую старую гипотезу, нам надо будет затем посмотреть, вписывается ли в нее имеющийся в нашем распоряжении исторический материал, после чего можно будет судить, верна она или нет.
Для верующего человека кое-что заранее свидетельствует в пользу такой гипотезы. Верующий, особенно православный христианин, считает своим создателем не естественный отбор, будто бы превративший обезьяну в человека, а Бога. Но если человек создан Богом, то создан для чего-то, для выполнения в мироздании какой-то работы. Но как человек сможет ее делать, если не будет знать, в чем она должна заключаться, а как он сможет это узнать, если не познает Бога и Его замысел? А как он познает Бога, если не вступит с Ним с общение, войдя в ту невидимую область бытия, где находится Бог? Эта цепочка вопросов наталкивает на мысль, что человеческая история должна была быть неким педагогическим процессом, в ходе которого люди получали все более ясные представления о горнем мире, чтобы по его завершению сдать выпускной экзамен: четко понять свою миссию и выполнить ее перед лицом своего Наставника. Коли это так, то этапами всемирной истории должны оказаться не общественно-экономические формации, не способы производства, не принципы организации труда и не политические формы, а стадии религиозного просвещения, аналогичные классам воспетой Гоголем Киевской бурсы, учащиеся которые назывались последовательностью: грамматии, риторы, философы и богословы. Эта аналогия хороша тем, что, вглядываясь в прошлое, там можно обнаружить тоже четыре “класса”, соответствующие четырем ступеням религиозного развития — шаманизм, язычество, строгое единобожие и православное христианство, в котором достигается полнота богопознания, выраженная в учении о Пресвятой Троице.
Тут необходимо сделать оговорку. Вряд ли существовал на земле какой-то народ, который прошел по порядку все четыре ступени духовного возрастания. “Обучение” велось не по отношению к отдельным цивилизациям, а охватывало человечество в его совокупности. Но ведь мы как раз и ищем суммарное направление, тот основной поток, который ясно обозначается несмотря на то, что в одних местах скорость течения может быть больше, а в других меньше, а у берегов и вообще можно видеть попятные струи. Упомянутые четыре фазы просвещения проходили разные народы и в разных местах, но все это интегрировалось историей в общий смысл. Иными словами, схема, которую мы проводим, отражает не столько здешнюю эмпирическую реальность, сколько водящую в эту реальность “оттуда” формообразующую идею.
Шаманизм
Это, пожалуй, та фаза, которую прошли в свое время все мировые этносы. Много тысяч лет тому назад шаманизм был общемировой религией и дал будущим народам первоначальную духовную подготовку. В наше время он сохранился лишь у некоторых племен Сибири, Северной Америки и Центральной Африки, да и то в сильно редуцированном виде. Сегодня единственной функцией сибирских шаманов является исцеление больных, шире их прерогативы в африканских джунглях, где они осуществляют общее руководство жизнью общества. А на заре человеческой истории они играли гораздо более значительную социальную роль.
В этом весьма любопытном общественном укладе, которому мы должны быть премного благодарны, ибо он дал нашим пращурам устойчивую связь с инобытием, без которой они просто не выжили бы в тех условиях, и на них история человечества закончилась бы, можно усмотреть сейчас некую примитивность. Но иной мир открывался человеку в той мере, в какой человек мог его вместить, и так было и дальше.
Связь с инобытием осуществлялась в этой религии особыми избранниками, которых в разных странах именовали по-разному: в Древнем Риме — авгурами, в Африке — колдунами, у кельтов — друидами и т. д. Такой избранник, а вернее, его душа, вышедшая из тела в результате некоего специального действия, отправляется в потусторонний мир и возвращается оттуда, принося племени полученные там драгоценные дары.
Откуда мы можем получить сведения о полноценном древнем шаманизме, обеспечившим само существование тогдашнего человечества, если теперь даже там, где он сохранился, он пришел в сильнейший упадок? Возможность реконструировать его в первозданном виде дает нам фольклор, а говоря конкретнее, волшебная сказка, сюжеты которых зачастую одинаковы у многих народов мира. Специалисты доказали, что сказка — это не досужий вымысел, а поэтическое отражение того, что когда-то было живой и очень важной реальностью (большой вклад в осмысление фольклора как ценного исторического источника внес наш замечательный исследователь В. Я. Пропп). Конечно, за многие века, прошедшие с тех пор, как повседневная данность стала превращаться в художественный сюжет, сказка неизбежно трансформировалась — что-то из нее выпадало, что-то к ней прибавлялось, и эта эволюция происходила в разных местах по-разному, завися от индивидуальных особенностей рассказчика и психологических черт народа, а еще больше — от той предметной действительности, в которой жил данный народ, поэтому реконструировать ее надо так, как это делал Жак Паганель с письмом капитана Гранта: те фразы, которых не было во французском тексте, он брал из английского или немецкого. После проведения фольклористами такой работы фабула волшебной сказки предстает в следующем виде.
В деревне живет молодой человек, которому все вокруг очень не нравится. Жизнь не налажена, люди какие-то вялые. Однажды он говорит своим родителям: пойду-ка я по свету — если найду глупее вас, тогда вернусь. И отправляется в путь. С собой он берет железный посох, железный хлеб и железные сапоги — как раз те три предмета, которые обнаруживают в древних курганных захоронениях. Следовательно, идет он в царство мертвых, называемое в сказке “тридесятым царством”.
Интересно, что путь не описывается. “Долго ли, коротко”, и герой на границе тридесятого царства, которое, следовательно, пребывает где-то рядом с нами. Сторожевой пункт — избушка на куриной ноге, пограничник — баба Яга костяная нога, то есть скелет, смерть. Она слепа, ориентируется с помощью обоняния. “Фу-фу, русским духом пахнет”, — восклицает она, когда герой входит в избушку. Дело, конечно, не в том, что он русский, а в том, что он — живой: как мертвецы отвратительно пахнут для живых, так и живые для мертвецов. Но вспомним, как герой попа в избушку. Она стояла к нему задом, а к лесу передом, но он не стал обходить ее вокруг, а сказал: “Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом”. Что, неужели ему лень было зайти сзади? Разумеется, дело не в этом, а в том, что он не мог этого сделать, ибо тот мир отделяет от нашего незримая линия, которую живой человек пересечь не может (вспомним черту, которой обнес себя Хома Брут в “Вие”). Слова же, которые он обращает к избушке, — заклинание, известное только шаманам. Оно срабатывает, и герой входит к Яге. Она что-то хочет от него узнать, но он произносит еще одно заклинание, которого не могу знать непосвященные: “Ты меня сперва напои-накорми, да в бане попарь, а потом выспрашивай”. После этого Яга становится “шелковой” и всячески помогает герою в его переправке “туда”, дав ему адреса своих сестер, живущих в “тридесятом царстве” и т. п. Обманув или победив всех своих противников, герой возвращается в родные места не с пустыми руками и становится царем. Его восшествие на престол народ встречает с ликованием, по этому поводу устраивается пир, и жизнь делается хорошей, чему содействуют те приобретения, которые герой получил в результате своего челночного вояжа в мир иной. Что же это такое?
Объединяя разные варианты сказки, мы видим целый набор. Тут и игла, в которой сидит смерть Кащея, обложившего население тяжкой данью; тут и невидимый “сват Наум”, исполняющий любые желания (сказка “Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”); тут и информация о каких-то важных грядущих событиях будут семь урожайных лет, а потом семь неурожайных). Реальность, просвечивающая через эти фантастические образы, очевидна. Шаман, посетивший потустороннее царство, отводит от соплеменников измучившее их внешнее иго; дает своему народу рецепты правильного жизнеустроения, в результате которых достигается материальное изобилие; предсказывает будущее. Это значит, что “в те глухие времена” (выражение Киплинга) шаман (друид, авгур, колдун и проч.) был хранителем, а зачастую и спасителем народа, который и избрал его за это своим вождем.
Как представлял себе первобытный человек трансцендентную действительность, без связи с которой не мыслил здешней жизни? Она была для него царством мертвых. Свойства этого царства, восстанавливаемые по фольклору, таковы: там нет пространства (долго ли, коротко ли); там нет времени (шаман, находясь там, увидел будущее так же ясно, как и настоящее); там находятся рычаги управления тем, что происходит на нашей земле; туда ушли наши умершие предки и уйдем мы, когда наступит смерть нашего тела, и будем находиться там вечно. Царство это не однородно, в нем есть “плохие” персонажи, которые вредят людям, и “хорошие”, оказывающие им помощью. В числе вторых находятся усопшие родственники — естественные посредники в установлении “связи”. Отсюда — культ предков, вошедший во многие религии, но особенно ярко проявившийся в японском синтоизме. (Полутонов пока нет, инобытие предстает в шаманизме черно-белым).
Язычество
Языческая религия естественно произросла из шаманизма, который дал исходную подготовку, теперь можно стало сообщить следующую порцию сведений. Как хорошие, так и плохие его “фигуранты” здесь “специализируются” в оказании людям помощи или нанесении им вреда и ущерба.
Для уяснения сути язычества нам уже нет надобности обращаться к фольклору и прибегать к технике расшифровки его образов, так как мы имеем перед собой очень полно представленный аутентичными текстами классический образец языческого мировоззрения античных греков. Правда, “Илиада” — тоже фольклор, но не поврежденный временем, дошедший из нас прямо из гущи языческой жизни таким, каким был и тогда. Древнегреческая языческая система представлений о дополнительной к нашему миру высшей реальности в XVIII веке буквально пленила образованное русское общество. Ранний Пушкин весь пропитан языческими образами, Недич перевел “Илиаду”, Жуковский — “Одиссею”, художники не хотели ничего рисовать, кроме Гераклов, нимф и сатиров, в театре графа Шереметева в Останкине над входом выше иконы Божьей Матери была поставлена статуя Аполлона. Позже это же языческое божество было водружено над Большим театром... Отзвуки этого повального увлечения все еще присутствуют в нашей культуре, так что пересказывать эллинские мифы нет никакой надобности, и нам остается лишь дать этому виду “связи” обобщенную метафизическую характеристику.
Тут очень важно подчеркнуть, что знание о потустороннем, которым располагали люди в эпоху шаманизма, целиком вошло в состав языческого знания. Снова уместно провести аналогию с бурсой: риторам положено было помнить то, что им сообщали, когда они были грамматиками, и их обучение во втором классе состояло из материала, добавляемого к материалу первого класса. Иными словами, религиозное просвещение человечества было кумулятивным — ничто последующее не отменяло предыдущего, а лишь прибавляло к нему что-то новое, так что процесс имел накопительный характер. Этого нет в прохождении “градусов” в масонских ложах, где при переводе в более высокую степень посвященности человеку говорят: забудь все, что тебе говорили раньше. Нет кумулятивности и в светской науке, где время от времени происходят “революции”, отменяющие предыдущие представления. Принцип накопления религиозного знания прямо сформулирован Христом на последнем этапе просвещения человечества: “Не нарушить пришел Я, но дополнить” (Мф. 5, 17). В русском тексте, правда, сказано “исполнить”, но это неточный перевод, не соответствующий смыслу греческого оригинала. Поэтому мы скажем только о тех элементах язычества, которых не было в шаманизме.
Прежде всего — это специализация тамошних персонажей. Появляется “бог грома”: у греков — Зевс, у славян — Перун; бог солнца (Гелмос, Дажьбог). Появляется божество плодородия (Деметра, Ярило), и т. д. Соответственно происходит и дифференцировка шаманов — один из них овладевает искусством связываться с Зевсом, другой — с Деметрой, третий — еще с каким-нибудь божеством. Так шаманы превращаются в жрецов, а единые прежде святилища становятся храмами — храмов Зевса, храмом богини Афины-Паллады (Парфенон) и т. д. Контакты с инобытием становятся более тесными и широкими — теперь можно вымаливать конкретные частные виды содействия, но неожиданно тут возникают и отрицательные артефакты. Распределив между собой шефство над отдельными сферами человеческой жизни, обитатели неба сделались ближе и понятнее людям и начали антропоморфизироваться. Конечно же, богиню войны и победы удобнее всего было представить в шлеме и с копьем в руке, а богиню любви в виде красивой женщины. Раз начавшись, антропоморфизация уже не могла остановиться и рано или поздно должна была дойти до абсурда, что мы и наблюдаем как раз на примере греков. Эта интимность отношений с языческими богами ведет к тому, что инобытие перестает быть ино-бытием, вливается в земную жизнь и, следовательно, теряет свой смысл. Таинственное царство мертвых, вызывавшее ужас и любопытство, населенное жуткими, загадочными, могучими существами, уступает место некоему аристократическому салону, где вращаются персонажи почти неотличимые от людей, только бессмертные, как Мак Лауд из американского сериала, которые интригуют друг против друга и во взаимных распрях частенько обращаются за помощью к людям, как это было при присуждении яблока Афродите Парисом. И салон этот как-то незаметно покидает небо и спускается на вполне вещественную гору Олимп. Понятно, что такие боги теряют свой главный атрибут — сакральность.
На каком-то этапе очеловечения своих богов эллины, видимо, почувствовали, что они так могут и вовсе потерять религиозную составляющую своего сознания и утратить прежний доступ к тайнам инобытия, вследствие чего их жизнь станет однослойной, а значит несамодостаточной. Инстинкт подсказал им, что без реальной, а не театрализованной связи с невидимой областью абсолютов общество станет таким же обреченным, как организм, лишившийся иммунной системы, и они отреагировали на эту угрозу двояким образом. Во-первых, они стали усиленно вникать в “иное” своим разумом, и так возникла великая эллинская философия, впервые в истории человеческой мысли отделившая сущность от явления и провозгласившая полную их несхожесть. Во-вторых, соблюдая принцип кумулятивности религиозного познания, они все же не забыли о “царстве мертвых” и, назвав его “аидом”, сохранили его в своей картине инобытия, а главное — оставили место в пантеоне и неантропоморфным таинственным существам, персонифицировав это подлинно “потустороннее” начало в образе трех богинь судьбы, именуемых Мойрами. Клото прядет нить жизни, Лахесис распределяет вдоль нее “написанное нар оду”, Атропос в определенный момент ее обрезает. Эти трое держатся на Олимпе особняком, в пирах остальных богов участия не принимают, к людям не спускаются, но, по существу, являются главными лицами там, наверху, ибо только они вершат людскую жизнь, и даже сам Зевс не может изменить хотя бы на йоту того, что они предназначили каждому из смертных. В общем, Мойры спасли престиж иного мира древних греков, как впоследствии спасли престиж иного мира римлян аналогичные богини парки. Благодаря им он остался серьезной и пугающей инстанцией, а не выродился в балаган, что было уже реальной опасностью.
Первый вид реакции на эту опасность — перенесение “иного” из онтологии в метафизику — имел такое огромное положительное значение для развития человеческой мысли, что его невозможно переоценить. Мудрецы элейской и афинской школ — Парменид, Ксенофан, Зенон, Георгий, Платон — создали поразительное по изяществу, тонкости и глубине учение о “едином” и его “ином”, которое не только стало фундаментом всей европейской философии, но и подготовило понятийный аппарат для создания в IV веке великими учителями Церкви тринитарного богословия (Сын — “иное” Отца). Второй вид реакции — абсолютизация рока — имел весьма отрицательные последствия — подкосил под корень эллинскую цивилизацию и в конечном счете обусловил ее уход с исторической сцены. Гипертрофированный фатализм, который заставлял греков платить большие деньги аракулам, чтобы выведать свою судьбу и хотя бы психологически подготовиться к ее ударам, раз уж ее нельзя изменить, делал их пассивными, а их культуру и искусство — консервативными, не принимающими никаких новшеств. Вся греческая драматургия, вершиной которой является трилогия Софокла о царе Эдипе, посвящена теме неотвратимости рока. Конечно, имеющий те же корни фатализм возникал и в других языческих системах, о чем свидетельствует, например, славянское сказание о тщетно пытавшемся изменить свой жребий князе Олеге, но самый яркий материал на этот счет нам дали эллины. Но в то самое время, когда в одной части мира усиливался кризис несоответствия между возросшим потенциалом человеческого интеллекта и сковывающим этот потенциал язычеством, в другой его части созревали средства преодоления этого кризиса.
Строгое единобожие
Классическим образом этой фазы религиозного развития служит единобожие древнеизраильского народа. Нет никаких сомнений в том, что оно выросло из “собственного” язычества, хотя в основном памятнике еврейского единобожия, в Ветхом Завете, на него нет никаких ссылок. Приняв единого Бога, израильтяне возненавидели свое бывшее язычество и тщательно скрыли факт его существования даже в исторической части Библии. Но спрятать все концы, конечно, не удалось: если евреи не были раньше язычниками, почему же их так неудержимо тянуло к многобожию и идолопоклонничеству? Ветхий Завет буквально переполнен описаниями страшных кар, которые ниспосылались за это на евреев свыше.
Схема перехода от язычества к единобожию проста и естественна. В сонме языческих божеств выделяется какое-то одно, которое постепенно начинает занимать все более высокое положение, и наконец делается не то председателем пантеона, не то старейшиной. Таков Зевс у греков, таков Сварог у славян, таков начальник Небесного Сада Окхван Санаже у корейцев. Но во всех этих случаях карьера выдвиженца на этом заканчивалась. Причина была в том, что, поднимаясь все выше по иерархической лестнице, божество делается все менее похожим на человека, становится, как сказал Ленин о декабристах, “страшно далеким от народа”, и к нему уже не так сподручно обращаться с просьбами. Всякий обыватель знает, что лучше ходатайствовать перед местным начальством, которое, хотя и не имеет больших полномочий, зато хорошо знает своих граждан и их проблемы, чем перед высшим, чья власть велика, но к нему почти нет шансов достучаться. Но вот вам диалектика: справедливость данного рассуждения простирается лишь до определенного уровня величия божественного существа, а когда этот уровень превышается, оно становится неправильным. Движение божества вверх есть движение к абсолюту, а абсолют есть все причем соединенное в самой совершенной форме — полнота положительных качеств, — значит в нем должно содержаться и качество высочайшей доступности и величайшей милости. То, что эту диалектику постигли жившие пять тысяч лет назад кочевые семитские племена, поразительно — скорее всего их языческим жрецам было дано на этот счет какое-то Откровение. Даже на следующей, последней ступени богопознания этого не все могли вместить. Симеон Новый Богослов, живший в Х веке, называл “странным и ангелам, и человеческим мыслям” то, что Творец и Вседержитель вселенной может беседовать с обыкновенными людьми как со Своими друзьями, а каким парадоксом это выглядело для диких пастухов, прекрасно знавших, что чем начальство выше, тем оно высокомернее! Может быть, поэтому они постоянно норовили возвратиться к обещавшему более интимные отношения с небом язычеству. Тем не менее, они не только приняли этот парадокс за истину, но положили его в самое основание своей молитвенной и богослужебной практики, обращаясь ко всемогущему Богу на “ты” и ожидая даров не от Его подручных или слуг, а непосредственно от Него самого. Такого блестящего и успешного прорыва к меняющему все земные представления о небесах на противоположные Абсолюту не совершил в истории никакой другой народ.
Что мы имеем в виду, называя единобожие “строгим”? Главным образом то, что в этой религии ничего не было известно о троичности Бога. Правда, намеки на Троицу встречаются в Ветхом Завете, но они имеют там завуалированный характер и стали понятными только в свете Новозаветного Откровения. Но для прилагательного “строгое” есть и другое основание: Иегова был строг к своему народу и в самом обычном смысле этого слова. Нет, Он был добр и человеколюбив, но разражался гневом всякий раз, когда евреи выходили из-под Его контроля и впадали в религиозные заблуждения прежних времен. Тут Он их жестоко наказывал, посылая всяческие несчастья, низводя с неба серный огонь, предавая их в рабство соседним народам и т. д. Они с полным правом могли сказать: “С нашим Иеговой не забалуешься!” Но, думается, читатель знает библейские сюжеты не хуже древнегреческих мифов, поэтому тему можно дальше не развивать. Ответим лучше на такой вопрос: не нарушился ли с приходом строгого единобожия принцип кумулятивности религиозного знания? Ни в коей мере. В ветхозаветной космологии нашлось место и царству мертвых (ад и преисподняя Библии), и множественности потусторонних персонажей, которые приняли теперь облик ангелов, вошедших в состав “сил небесных”. Сохранилась идущая еще от шаманизма дихотомия инобытия на белую и черную половины — последнюю образовали отпавшие от Бога ангелы, названные бесами, которых возглавил бывший лучший помощник Бога Денница, ставший после своего отпадения сатаной. Но анархии, какая царила на Олимпе, там уже не было, вся полнота власти принадлежала Богу. А как обстояло дело с роком, с предопределенностью судьбы человека? Разумеется, она была отменена, ибо теперь все зависело от живой и переменчивой в зависимости от человеческого поведения Божьей воли — никаких Мойр около себя Иегова не потерпел бы. Бог дал евреям через Моисея законы правильного поведения (это и был, собственно говоря, Завет, то есть соглашение, который при появлении Нового Завета стали именовать “Ветхим””), и за исполнение этих законов обещал вознаграждать, так что судьба человека стала в какой-то степени зависеть от него самого. За неисполнение же закона должны были следовать жестокие наказания, и эта часть была более разработанной. Синайское законодательство формулируется в основном в виде запретов (не кради, не убивай и т. д.). Это сделало евреев, в отличие от эллинов, очень активным народом, каким они остаются и по сегодня.
Характеризуя в двух словах то новое, что внесло строгое единобожие в практику контактов человека с инобытием, надо отметить, что эти контакты стали намного “демократичнее”. Специально уполномоченные “связисты” остались, именуясь теперь не “жрецами”, а “священниками”, но им отводилась роль скорее мировых судей и советчиков, и монополии в сношениях с небесами у них не было. Более того, поощрялось и одобрялось прямое вступление в контакт с Иеговой всякого отдельного верующего. Вы спросите: кем поощрялось? Самим Иеговой! Вот что Он сказал об этом: “Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым” (Исх. 19, 5). Вдумайтесь: ведь это нечто дотоле небывалое — народ, сплошь состоящий из священников! Но это, как оказалось позже, еще не была та цель, ради которой шаг за шагом поднималось вверх религиозное сознание людей. Цель эта состоит в том, чтобы каждый человек стал ее священником, а богом. Но для этого Богу пришлось стать человеком.
Полнота религиозной истины
В последней фазе религиозного просвещения, в православном христианстве, слились все главные потоки истории. Особо надо выделить три из них: эллинскую философскую мысль, израильское религиозное чувств, римскую государственную волю. Первые два потока, соединившись, породили истинное учение о Боге как Пресвятой Троице, а третий подготовил огромное однородное в политическом, языковом и правовом отношении пространство, простиравшееся от Британских островов до Северной Африки и от Пиринейского полуострова до Крыма — РАХ ROMANA, — по которому это учение смогло невероятно быстро распространиться и сделать Европу христианской. Новый Завет, подписанный со стороны Бога кровью Его Единородного Сына, а со стороны людей — кровью бесчисленных мучеников за Христа, завершил не только процесс религиозного просвещения народов земли, но и дело миросозидания в целом. Строго говоря, религией, то есть “восстановлением связи”, можно назвать только христианство, ибо под восстановлением связи понимается возвращение человеку богоподобия, утраченного им после первородного греха, а возвратил его нам “Новый Адам” — сошедший на землю ради нашего искупления Бог-Сын, Иисус Христос. В результате воплощения, земного служения, крестной смерти, Воскресения, Вознесения и ниспослания на апостолов Святого Духа, знаменовавшего рождение Христовой Церкви, человек действительно стал совершенно другим — как выражается апостол Павел, “новой тварью”.
Богоподобие означает наличие в человеке, пусть в относительной степени, тех же духовных свойств, которые в абсолютной степени присущи Богу. Едва ли не первым из свойств Бога является свобода, следовательно возвращение нам богоподобия подразумевает и предоставление нам такой меры свободы, какой мы прежде никогда не имели. И Новый Завет действительно освободил нас от многого того, что раньше нас порабощало. На стадии строгого единобожия человек был освобожден от рока язычников, но был жестко ограничен категорическими запретами, среди которых были такие удивительные, но обязательные к исполнению, как “не заграждай уста волу, когда он молотит”. Христианство упразднило эту мелочную регламентацию и дало законы совершенно нового типа, состоящие в указании идеалов, к которым надо стремиться. Разницу между ветхозаветной и новозаветной нормативностью хорошо выразил Лев Толстой, который страшно путался в религиозных вопросах, но в данном случае понял все правильно.
“Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.
“Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день... и т. под.”... Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.
“Люби Бога твоего всем сердцем, и всею душою твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный”.
Таково учение Христа.
Добавим, что это учение должно быть принято человеком совершенно добровольно, ибо если в самом важном для человека выборе — принимать или не принимать учение Христа — Бог отнимет у него свобод, то Он отнимет у него и богоподобие.
Это заставляет вспомнить знаменитый вопрос: может ли Бог создать камень, который сам не поднимет? Чего тут спрашивать — Он уже создал такой камень в лице человека. Но народная мудрость прибавляет: камень не подымет, а землю опустит — то есть все равно достигнет своей цели, только другим путем. Это и понятно: “Бог поругаем не бывает” (Гал. 6, 7). Он стал человеком, чтобы человек стал богом — эта формула Иоанна Златоуста абсолютно верна, но чтобы человек обожился одной Искупительной Жертвы недостаточно, надо еще, чтобы человек захотел обожиться, чтобы узкие врата, ведущие к Царству Небесному стали для него милыми и привлекательными. НО мы таковы, что прежде, чем найдем эти врата, набиваем шишки, тыкаясь совсем не туда.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна говорила воспитанницам основанной ею Марфо-Мариинской обители: “Я не могу вести вас в рай на веревочке”. Этого не может и Бог. Он создал условия нашего обожения, а дальше предоставил нам время для принятия решения. И неудивительно, что среди нас начался разброд — люди-то разные. Западноевропейцы побыли христианами немного более тысячи лет, а потом начали двигаться не вперед, а назад. Причиной этого, как ни парадоксально, был еще один признак возвращенного нам богоподобия — творческая сила. Бог, помимо абсолютной свободы, обладает еще абсолютной способностью созидать: может “творить из ничего”. Но тогда подобное Ему существо тоже должно делать, или, по крайней мере, пытаться делать что-то вроде этого. Созидать из ничего — идеал для христианина, и хотя этот идеал объективно недостижим, у человека иногда возникает субъективное ощущение, что он его достиг, и тогда человека может охватить гордыня вроде той, которая погубила Денницу: я, дескать, ничуть не хуже Бога! Творцами “почти из ничего” были великие ученые христианской цивилизации, которым было попущено свыше громадное дерзновение, совершенно немыслимое в русле предыдущих трех религий. Так возникла преобразившая мир современная наука. Открытие Ньютоном и Лейбницом интегрального исчисления, открытие Лобачевским неевклидовой геометрии, открытие Менделеевым периодической таблицы, открытие Уотсоном механизма синтеза белков на рибосомах под управлением нуклеиновых кислот — все это акты такого дерзновения. Европейская наука, коренящаяся в подражании Творцу, — наше великое достояние, наша гордость, но не больше ли ее мы должны ценить Того, в Ком ее корень? Вот этого-то и не поняли европейцы. Производное они приняли за главное и тем самым перевернули все кверху ногами, в том числе и приоритеты системы образования.
* * *
Дверь, ведущая к научным знаниям — это не та дверь. Гораздо важней другая, которая ведет к знанию религиозному. В пользу этого утверждения можно привести ряд убедительных доводов.
Во-первых, теории, составляющие научное знание, ненадежны. Это показал многовековой опыт. Сколько уже раз случалось так, что наука объявляла какое-то свое построение истиной в последней инстанции, а потом оказалось, что оно ложно! Яркая иллюстрация — крах классической физики и замена ее совершенно другой по своим принципам квантовой физикой. Но в таком случае где гарантия, что мы не рисуем школьникам картину вселенной, совершенно не соответствующую действительности? Не лучше ли ставить акцент на религиозном знании, которое расширялось в течение тысячелетий накопительным образом, безо всяких переворотов?
Во-вторых, религия и наука не эквивалентны по своей объяснительной силе. Религия очень легко объясняет происхождение и суть науки, а для науки феномен религии загадочен. Повторять пошлые высказывания научного атеизма, будто религия возникла из-за страха древних людей перед грозными явлениями природы или что мученичество за Христа первых трех веков было каким-то массовым умопомешательством, стыдно и глупо, а других объяснений ученые так и не придумали. Значит религиозное знание универсальнее научного, а универсальное всегда важнее частного.
В-третьих, научное знание не учит самому существенному для человека — как ему жить, а религиозное знание включает в себя и это. А что важнее — знать, как крутятся в атоме электроны (впрочем, недавно выяснилось, что никаких электронных орбит в атоме нет, но этот факт не дошел еще до школьных программ), или как поступить в той или иной жизненной ситуации?
В-четвертых, при воспитании отдельной личности целесообразно руководствоваться биогенетическим законом “онтогенез повторяет филогенез”: вести ее тем же путем, каким Творец вел к Истине все человечество, то есть давать ей в первую очередь религиозное знание.
Фетишизация науки завела мир в тупик. Конечно, основы научных знаний давать в современной школе необходимо, но если при этом не развивать религиозное сознание учащихся, они вырастут дикарями, хуже тех, которые жили при шаманизме, — у тех, по крайней мере, имелось понимание того, что без связи с невещественным слоем сущего не может быть полноты здешнего бытия, а современная постхристианская цивилизация, в которую активно втягивают нынче и Россию, закрыла все окна в невидимый мир целей и смыслов, превращая людей в чистых производителей и потребителей. Помещенные в замкнутый несамодостаточный мир материи, они на наших глазах и вправду становятся дикарями. Именно это вызывает презрение и ненависть к Западу мусульман, находящихся на довольно высокой ступени религиозного сознания — строгом единобожии. У маргинальных сект ислама эта ненависть доходит до того, что они бросаются уничтожать дикарскую западную цивилизацию методами террора. Но ведь террор — тоже дикарство. Пусть Запад набивает новые шишки — может это его образумит. Но уберечь от шишек своих детей мы обязаны, и лучшим средством тут является широкое распространение в нашем обществе религиозного знания.