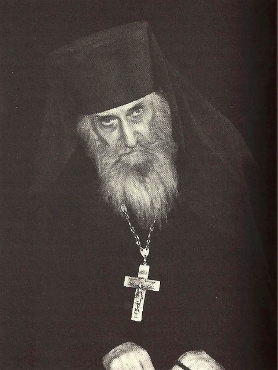
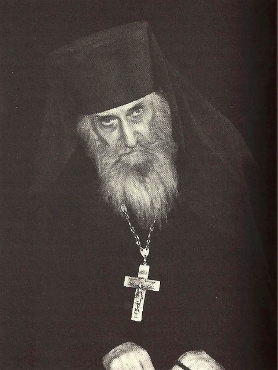
Архимандрит Константин
(Зайцев Кирилл
Иосифович) –
(1887-1975)
Это
словосочетание чуждо русской речи исторической. В условиях нормальной
жизни в
нем звучало бы что-то не просто ненужное, но даже и вредное:
надуманное, искусственное,
претенциозно-изощренное. Ведь в нём могло бы таиться некоторое
охорашивание в
своей “святости”, в своей квалифицированной устремленности к Богу,
некая даже
кичливость, заносчивость... <...>
В чем же заключается то
совершенно новое, во что оказывается погруженным современный русский
человек,
сохранившийся в своей Русскости? Разве не в том, что в этой
сохранившейся в нём
Русскости он оказывается лишённым всего того, в чем он веками обретал и
являл
её? Ведь вокруг него нет больше, ни народа Русского, ни государства
Русского!
Нет ни Святой Руси, ни Великой России! Нет больше ни Русского
Православного
Царства – ни даже Русской Православной Церкви, в её нераздельной
слитности с
Царством и с Народом – с Россией, как с живым целыми, с Исторической Россией! Все это
стёрто с лица земли, и не в том
смысле, чтобы быть замененным чем-то иным и новым, оттеснившим или даже
уничтожившим всё былое, обозначавшееся именем Русскости. Нет! Тот же человеческий состав, в своей
исконной
Русскости, остается на своем месте – только он радикально меняется в
своей
сущности. Ибо что искореняется сейчас насильственно и радикально, в
массовом
масштабе, не терпя никаких исключений, не допуская никаких смягчений,
не даруя
никаких льгот? – Русское
самосознание
народное, во всем его содержании, Историей выработанном...
<...> Захваченная Россия, стала <...> предметом насильственного
обезличивания
беспощадного, повсеместного и не знающего никаких послаблений или
ограничений.
Если Русскость остается и даже
культивируется, то уже не только в полном разобщении, в полном разрыве
со своим
прошлым, но даже в заостренном ненавистничестве к этому прошлому, в его
целом,
а в частности и нарочито в его вероисповедном содержании! Создается новая Русскость – Советская, не
та,
пронизанная насквозь озорством революционным, которая временно обхамила
Россию,
а возведенная уже в догмат, превращающий Русский народ в осатанелый
человеческий материал, предназначенный для распространения этой
осатанелости во
всем мире.
Так утвердился в России режим,
который может быть точно и вразумительно обозначен только одним
термином: сатанократия. Тут
нет уже никакого идейного
состава – даже марксистского или коммунистического. Это всё видимость.
Реальность одна – сатанизм... <...>
Мы забежали вперед:
“Православная
Русскость” – где же она?
Сатанизм лукав, он не
пренебрегает силою, но все же основной его метод овладения сознанием
человека –
лесть, т.е. ложь. Она и составляет наиболее характерную особенность
нашего
апостасийного времени, являясь, и путем соблазна, и образом господства.
Единственным способом спасения является сейчас сознательное
противостояние
осатанелости человечества в своей верности Христу. И вот, когда
спасением может
быть только сознательный и безусловный выбор Христа пред лицом стихии
сатанизма, овладевающей человечеством – тут-то возникает учение,
согласно
которому ныне путь человечества, в его целом, есть эволюция, в её противопоставлении абсолютной верности традиции
благословенной, оберегающей
возвещенную Богом человечеству Истину. <...> ...Действием вселенского
сговора
человечества открывают на земле искомое блаженство. Чем же для сознания
не
тронутого “лестью” является это таким образом обретенное блаженство,
если не
Антихристом, объединяющим мир в его отвращённости от Христа и тем
предваряющим
наступление Страшного Суда?
И вот тут-то и раскрывается все
судьбоносное значение “Православной Русскости”, как единственного пути
продления Истории, оставшегося человечеству с возникновением Апостасии.
Ведь
что означает это словосочетание, как не то, что русский человек,
поскольку он
остается именно тем русским каким его сделала История, пронизан
Христианством <...>. Это и есть то, что совершенно
естественно
сочетало с нашим отечеством эпитет “святости”. Тут дело не в идеях и
учреждениях, как таковых, а в такой установке сознания, когда верность
Христу
воспринимается, как общий подвиг,
присущий, так сказать, каждодневной обыденности <...>.
Перед нами нечто совершенно
исключительное: массовое стояние перед Богом, но определяемое уже не общим режимом, веками
наследственно
блюдомым, а личной верностью
Богу,
сохраняющейся, пусть и потаенно, под игом даже сатанократии. Перед нами
личная,
но вместе с тем и массовая непреклонность веры, во всей целостности
Православия
<...>. Это и
есть Православная Русскость.
Теперь мы можем распознать всю
многозначительную содержательность словосочетания “Православная
Русскость” в
условиях нашей страшной современности. Это такая пронизанность сознания
человека <...> Православием, что оно <...> остается голосом его совести в
условиях,
когда вычеркнут из бытия Русский народ, в его целом, <...> когда каждый Русский человек,
оставаясь в
своей стране, становится предметом насильственной переработки в
направлении
принципиально противоположном тому, которое составляло сущность его
истории.
Все насильственно отнято у Русского человека, что составляло сущность
его жизни
исторической – осталась от прошлого только “Русскость”, т. е.
принадлежность к
Русскому народу, так сказать, племенная, этнографическая,
наследственная. <...> Русский народ в своем увлечении
современной
культурой <...> не только допустил
ниспровержение Русского
Православного Царства, но и сам участвовал в этом сатанинском действии.
<...>. И вот в этих устрашающих
условиях не
окажется ли, что его Русскость, вопреки всему, не только не оторвалась
от
Православия, а, напротив, заново срослась с ним нераздельно? И не
выйдет ли
так, что в условиях, когда с падением Удерживающего весь мир
оказывается во
власти Зла, в Православной Русскости обнаружится сила, которая в своей <...> нарочитой преданности Богу по
признаку своей
Русскости, способна будет совершить то Сверх-Чудо, действием которого
Апостасия
станет чем-то бывшим и преодоленным?
Это и есть то, что составляет
существо, в настоящих условиях, словосочетания “Православная
Русскость”. Наличие
её еще ни в какой мере не предрешает наступление такого массового подъема верности Христу
истинному в России, в условиях
которого восстановленным может стать Удерживающий. Наличие её
свидетельствует,
однако, о том, что существует и в апостасийном
мире некое явление, в котором осуществляется не только
индивидуальное
спасение душ теми, кто могут быть наименованы “последними христианами”,
но в
недрах которого таится возможность и чего-то большего, а именно
возрождения
Русского народа в его Православной Русскости <...>...
... Приходилось мне слышать о
том, как после литургии в воскресные дни задерживались иногда перед
своим
деревенским храмом молящиеся, и тут же старцами разбирались, можно
сказать, на
ходу, те или иные недоразумения или столкновения, которые возникали
между
местными крестьянами; быстро и просто все приходило к миру.
В исключительно привлекательном
свете рисовался вообще общий быт – в смысле взаимной помощи и
совместного
разрешения каких-либо неурядиц. Старцы были авторитетами неколебимыми.
И это не
обязательно в плане особого выделения нарочитых авторитетов. В
обыденной жизни
чисто личные отношения взаимно упорядочивались безболезненно и
окончательно.
Должен кто, а в срок не отдает. Когда сроки явно и легкомысленно
пренебрегаются
без достаточного основания – чем пугает нерадивого его “кредитор”? Он
показывает на доску, на которой, среди всяких других вещей, записано,
сколько и
когда этому человеку дано, и увещательно предостерегает:
– Смотри, сотру!
Приходилось знакомиться и в
печати с писаниями, рисующими крестьянскую жизнь. <...> Под этим углом зрения особую
оценку получает
и т. н. крепостное право. Оно могло являть, в отдельных случаях,
картину самого
отвратительного произвола, но нормальная жизнь помещика со своими
крестьянами
носила благостный патриархальный характер, исключительно
привлекательный:
достаточно взять в руки писания старика Аксакова, чтобы в этом
убедиться. Зло
чаще приносили крестьянам не злокачественные помещики, а, напротив,
“передовые”, которым уже невдомек было нести бремя опеки над своим
крестьянством. Им хотелось скорее от них избавиться. Чего проще? Надо
“освободить” крестьян! Но своим “передовым” сознанием они воспринимали
освобождение, как отпуск на волю, на все четыре стороны: землю они всю
считали
своей!
И тут бывали показательные
эпизоды. Либеральный помещик приезжает из-за границы к себе в деревню,
собирает
сход и великодушно объявляет “волю”, ожидая восторженной благодарности.
Вместо
этого, он видел перед собою мрачные лица и недоверчиво-отчужденные
взоры. – “А
земля как”? – Недоумение испытывает помещик: земля – его! Она у него и
остается. Чешут затылки старики: “Нет, батюшка, пусть уж будет по
старому: мы
ваши, а земля наша...”. Просто и ясно все крестьянам, но в полной
растерянности
барин в своем отвергнутом великодушии ...
Патриархальным был быт
всероссийский, и формальное право, как и формальная государственная
власть,
давали себя знать относительно редко, в случаях исключительных.
Раскинутая на
громадные пространства, наша патриархальная деревенская Русь жила без
полиции
до самого почти последнего времени! Даже верховная власть сохраняла
свою
патриархальную природу: к Государю Императору каждый мог
непосредственно
обратиться, и никто не бывал отвергнут. Не только особый ящик во дворце
всегда
висел, куда каждый мог бросить свою просьбу, которая попадала в руки
Царя, но
обычной была и подача ему жалоб и прошений и персонально, при встрече
на улице,
где на пути обычных прогулок его подстерегали просители, иногда из
самой
глубины России, и каждая жалоба бывала принята. А непосредственная
доступность
Дворца получила яркое выражение в установившемся обычае устраивать раз
в год в
Зимнем Дворце открытый бал, куда доступ был открыт каждому, кто
прилично одет,
и где все чувствовали себя гостями Царя, их принимавшего и даже
танцевавшего с
“дамами”...
Но самым ярким проявлением
благодатной патриархальности всего быта, от высших до низших, надо
признать то,
как протекало расставание с жизнью тех, кто возглавлял свой семейный
очаг... И
тут не только смерть имеется ввиду, но и уход на покой, и это далеко не
всегда
в монастырь, а иногда оставаясь под своей крышей.
С этим явлением, которое
протекало повсеместно под лозунгом “пора подумать о душе”, мне пришлось
лично
ознакомиться на примере одного своего друга по высшей школе. Это был
очень
живой и способный, совершенно столичный человек. Большая была семья, к
которой
он принадлежал, состоятельная и возглавляемая, как это не так уж редко
бывало,
бабушкой – “матерой вдовой”. Властная, энергичная, деловая, она в своих
руках
держала всех членов семьи, частью живущих в Петербурге, частью в
деревне, в
своих поместьях. В один прекрасный день она всех собрала и сообщила,
что пора
ей подумать о душе, почему она и передает все руководство общей их
жизнью своей
смене. Она никуда не ушла, продолжала жить в Петербурге, но никакого ни
участия
в деловой жизни, ни даже интереса к ней она, только что вся бывшая
“Делом”, уже
не проявляла. Она была доступна для всех, но уже не в деловом смысле, а
только
применительно к “душе”. Это была семья с относительно скромными
средствами.
Подобное событие протекало незаметно. Но в условиях других расставание
с жизнью
главы дома обретало характер события очень крупного масштаба. Конечно,
если то
был уход в монастырь или в домашний затвор, то никакого “шума” не могло
быть, и
все совершалось максимально потаенно. Но смерть получала характер
события
огромного размаха, при всей духовной сосредоточенности и при всем
отсутствии
“показа”. Одно обстоятельство тут имело решающее значение,
свидетельствовавшее,
вместе с тем, о всей духовной высоко качественности русского быта. Это
–
открытие, свыше уходящему ... совершенно точной даты его расставания с
жизнью...
Так смерть получала облик
величественного торжества. Стадия подготовительная получала выражение в
достойном прощании с остающимися. Мир и любовь должны покрыть всё с
каждым! И
под этим углом зрения, в общении со своим духовным отцом, все личные
затруднения должны были быть духовно осмысленно разрешены: никто не
должен был
быть забыт. Едва ли, в состав всего комплекса “Православной Русскости”,
можно
найти более яркое свидетельство духовной её проникновенности. И, как ни
выдыхалась за последнее время своего бытия Историческая Россия –
подобные
явления оставались живой реальностью до конца...
<...> Для европейской культуры
характерно как бы
принципиальное разобщение сознания по признаку обращенности к тому или
иному
предмету: самая установка сознания, в соответствии с направленностью
внимания
на тот или иной предмет, испытывает изменение – радикальное! Это
касается даже
и проявления Веры! Со всей искренностью и серьезностью человек
помолится, дома
или в храме; со всей искренностью и серьезностью побеседует или
подумает на
соответственный темы; со всей внимательностью отдастся чтению и
размышлению над
прочитанным, относящимся к Вере. Но всё то многое, что составляет
содержание
его остальной жизни – совсем не обязательно должно быть пронизано, или
хотя бы
сколько-нибудь серьезно задето Верой. Это не представимо для
Православной
Русскости: она лежит в основе всего
именно в своей Православности,
чем и
определяется своеобразие “Русскости” исторической. Русский человек
способен
иногда самым грубым образом оскорблять свою Православность, как и
пренебрегать
ею, но это сознательный акт, требующий покаяния! Русскость, как
историческое
достижение – именно пронизана
Православием. Отсюда и совершенно особое существо Русского
верноподданничества!
Существовали две стороны Русской
действительности, которые искони оставались не только недоступными
понимание инословных,
но даже ощущались несколько отчужденно православными чужеземцами. Это
отношения
народа к храму и к Царю. Церковные люди Византии были очень
благочестивы, но
когда они попадали в Московскую Русь, они изнемогали. Свидетельство
очень
красноречивое: описание посещения Москвы, исполненное несказанного
удивления
перед выносливостью Русского народа, способного массами выстаивать все
службы,
без малейшего признака утомления, тогда как наш церковный византиец
буквально с
ног валился, и это еще только на пути через Россию в Москву. И это
свидетельство не единично. Что же говорить о западных посетителях! Мне
в
молодости привелось слышать свидетельство одного выдающегося регента,
уроженца
Приуралья, из которого ясно было, что бытовая тесная связь народной
массы с
храмом оставалась и в наши времена реальностью очевидной. Он
рассказывал, что у
них в селе перестроена была церковь, – увеличена в своем размере, и вот
Пасха
пришлась на время, когда не было еще клиросов. Весь народ был в храме,
и хор
был не отдельно, а тут же. И что же получилось? Всю обедню пел весь
народ – все
знали ее наизусть! Это было потрясающее переживание, когда
переполненный до
отказа большой храм представлял такое певческое единство ...
Нечто аналогичное было и в
отношении к Царю: он был близок всем, и это в своей близости к Церкви,
прежде
всего. Он всем был “свой” и своим оставался – при всех условиях, даже в
полном
отчуждении от своего Отечества, в каких бы условиях оно ни возникало,
даже в
образе дезертирства, которое обычно создает враждебную завесу,
непреодолимую.
Кто бы, где бы из Русских обывателей ни оказывался – он оставался
верным
подданным своего Царя! Что же говорить о тех, кто пребывали в России!
Царь в своей теснейшей близости
к
Церкви, был родным для всех и каждого, воплощая в себе Отчизну во всех
смыслах
и отношениях. И здесь патриархальность, при всей огромности масштабов
её
применения, являла себя в самой трогательной непосредственности, делая
отношения каждого с Царем предельно простыми, ничем не отличающимися от
патриархальности интимно-семейной. И это сочеталось со сказочной
пышностью, во
всех моментах общения Царя с народом себя проявлявшей и производившей
потрясающее впечатление на всех, кто со стороны мог быть наблюдателем.
Так было
на всем громадном протяжении России. Так было не только на далеких
окраинах, но
и в других странах и на других континентах, где, так или иначе
оказывались
русские поселенцы, вольные и невольные (вспомним о пленных, которые
массами
оказывались в руках “агарян” и потом тянулись окружным путем через
громадные
пространства к себе домой!). Особо надо помянуть казачество, которое, в
своей
“вольности”, проявлявшейся прежде всего в самом факте своего начального
“дезертирства”, оставалась преданнейшей принадлежностью Русского
Православного
Царства, незаменимой в своем охранительном окружении его, а вместе се
тем и в
своей расширительной действенности, раздвигавшей пределы нашего
отечества до
отдаленнейших, уже непреодолимых, естественных границ... Пусть это было
этнографическое множество: оно было пронизано Русскостью, в которой
Православие
нераздельно слито с верноподанничеством, пронизанным благочестием и
преданностью Богу.
Православная Русскость,
воплощенная в Русском Православном Царстве, еще в другом смысле являла
нечто
единственное в своей значительности: свое высшее значение ... в том,
что ...
Царь ... был одновременно и Удерживающим.
Это значило, что на Русском Православном Царстве держался Мир! Процесс Апостасийный
подготовительный, в смысле
наглядного <...> ниспровержения Церковной
Истины, получил начало
фактом возникновения Католической Церкви, возглавляемой Папой Римским.
Завершительным же событием в этом процессе явилось разрушение Русского Православного Царства,
явившееся следствием
духовного разложения Православной Русскости, бывшей одновременно и
творением
Русского Православного Царства, и его существом. История тем кончилась. Наступила
стадия конца, не только
предрешенного, но начавшего осуществляться фактом ухода из Мира
Русского
Православного Царства, как свыше устрояющей этот мир силы. Наступил
процесс
органического разложения исторической России. <...> И тут перед нами встает во весь
свой рост
проблема расценки существа
нашей
Революции, в её разрушительном действии.
Можно много говорить о тех
силах,
которые были озабочены её подготовкой, как можно еще больше говорить о
тех
силах, которые в своей Революционной качественности активно вложились в
нее.
Нельзя отрицать огромной значительности этих явлений. Но, тем не менее,
никак
не уложишь Русскую Революцию в рамки исторического
её развития и развертывания. И это с особенной силой обозначается как
раз в
сопоставлении явлений о. Иоанна Кронштадтскаго и нашего Последнего Царя
с ходом
и с результатом Русской Революции. <...>
Можно много чего сказать в
смысле
вразумительных объяснений тех или иных фактов, самых судьбоносных,
определивших
судьбы России, как в Революционном её развале, так и в возникновении из
этого
развала нашей постреволюционной действительности. Однако, пропасть
разверзается
между всем, что можно и должно сказать в объяснение тех или иных
событий,
приведших к тому, что Русское Православное Царство оказалось смененным
коммунистической сатанократией, олицетворяемой Лениным, и самым фактом
этого
оборотничества Святой Руси в Сатанократию...
Чтобы отдать себе ясный отчет, в
какой мере это было именно так, достаточно обратиться мысленным взором
к Белому
Движению. Это была самоотверженная, патриотическая и в высокой степени
осмысленная борьба, но никак не скажешь, что это было проявлением
Православной
Русскости! Великая Россия
была у всех
на первом месте в их патриотическом сознании, но едва ли о многих можно
сказать, что одновременно владела их сознанием Святая Русь! Вообще, можно с
достаточной уверенностью сказать,
что к этому времени уже нельзя было Православную Русскость отожествить
с Исторической
Россией. И уж, конечно, никак нельзя было основоположным заданием
Белого
Движения воспринять восстановление Удерживающего, в Его не только
русском, но и
вселенском значении. Едва ли много было, даже среди убежденнейших
монархистов и
легитимистов, лиц, отдающих себе отчет в промыслительном и судьбоносном
призвании Русского Царя... А отсюда вытекало, что Россия, после падения
Царя,
явила собою некую суматоху, позволявшую слагаться в некое властное
единство
наиболее злокачественным разрушителям на фоне некой общей
растерянности, а
никак не картину общего вдохновенного горения, естественно порождаемого
ничем
иным, как Православной Русскостью, неспособной потерпеть свержение Царя.
<...> И тут оставлена
была Россия Богом. Тут некая мистическая тьма нависла над нашим
Отечеством, понятная только тому, кто способен увидеть в свершающемся
развале
России наступление последнего этапа Мировой Истории, когда, с падением
Удерживающего, Бог уже покидает мир, устремляющейся к своему концу в
своей
вселенскости... Духовно опустошенная, Россия, оказалась, так сказать,
“пустым
местом”, естественно ставшим ареной той явной сатанократии, под знаком
которой
весь остальной мир, поскольку он не был ею захвачен, раскрывается уже в
своей
новой, Апостасийной
сущности: фальсифицированнаго Христианства. Так началась
подготовка мира
к приятию Антихриста, в самом именовании своем означающего, и
Против-Христа и
Вместо-Христа...
Эта “пропасть” заполняется
только
одним, что только задним числом способно, и то с трудом, проникнуть в
полной
своей значимости в наше сознание: пониманием того, что если наступление
Апостасии падением Удерживающего вызвало притупление, в массовом
масштабе,
того, что мы сейчас определяем, как Православная Русскость, то и само
падение
Удерживающего свидетельствует о уже наступившем катастрофическом
притуплении.
Это не значит, что в составе
революционной активности на первом месте стояла направленность сознания
именно богоборческая. Это не
значит и то, что
пассивное отношение к Революции, в смысле отсутствия массовой
защитительной
реакции, определялось расцерковлением
России Православной. Могли открыто не идти против Церкви те, кто
разрушали, как
могли оставаться близкими к Церкви, действительными чадами Её, те, кто
не
проявляли активного сопротивления Революции. Существенно то, что
массовое,
общерусское “стояние перед Богом”, как нормальное состояние сердца, уже
не было
Русской действительностью...
Весь период Императорской России
был неким высвобождением из замкнутого круга Православной Русскости,
властно
определяемым безысходной необходимостью жить общей жизнью с Европейским
Западом. Петровская эпоха уже тем потрясала самое существо Православной
Русскости, что делала обыденным явлением знакомство со всем Западным
бытом, в
частности, и церковным. Русский человек, раньше попадавший на Запад,
будь то в
образе полоняника, пробирающегося домой, будь то в образе Посланника
Московского Царя, или вовсе не замечал западные храмы, или воспринимал
их
только как любопытные постройки. Теперь же вся Западная жизнь требовала
ознакомления
с ней, чем в той или иной мере овладевала и сознанием. Вся наша
культура
обретает характер некой двойственности – пусть этим определялось и
более
углубленное осознание своей Православной Русскости для тех, кто
оставались ей
абсолютно верными.
<...> Влияние Запада <...> влекло за собою совершенно
естественно и
неотвратимо притупление нашей Православной Русскости <...>. В самых разных формах
обнаруживалось и
непосредственное воздействие новых элементов в самосознании нашем – и
это
вплоть до самых верхов нашей Церковности <...>. ...Массовое обличие Русской
общественности,
далекое от Православной Русскости, <...> катастрофический характер явило
в образе
того революционного движения, которое охватило Россию в 1905-6 гг.
Некий фон
оставался, не лишена была жизненности и массовая среда, еще почвенно
пронизанная старым бытом. Но некая органическая обновленность уже
господствовала, чем определялось то, что Революция 1917 г. и все
последующее
встречено было в своей стихийной разрушительности пассивно. Русская
действительность
уже органически изменилась.
Всем сказанным достаточно ясно
обозначается вся мистическая значимость словосочетания “Православная
Русскость”. Ведь возрождение её, достаточно могущественное, чтобы
сделать
реальностью восстановление Исторической России, в её сущности Русского
Православного Царства, возглавляемого Удерживающим – есть продление
Бытия мира
в его Богоустановленной заданности отбора в составе человечества верных
последователей Христа, пришедшего в мир, чтобы Искупительной Жертвой
Своей
Крестной Смерти открыть вход спасающимся в Блаженную Вечность.
Зарубежная Русская Церковь – не
есть ли как бы некий естественный отбор русских православных христиан,
предназначенных, и нести в инословный мир воплощаемую в ней Истину, и
всеми
доступными способами укреплять в ней своих подневольных братьев.
Русская
Зарубежная Церковь, по заданию, нарушение коего было бы изменой Христу,
есть
именно воплощение Православной Русскости – в чаянии не только личного
спасения
её чад, но и служения Русскому народу, в деле личного спасения всех
сохраняющих
себя в своей Православной Русскости, в процессе какового может само
собою
наступить и нечто большее, если “Православная Русскость” окажется
способной
стать общим самосознанием подневольников Советской Сатанократии.
Громадность неизмеримая,
общечеловеческая, вселенская, этого задания сливается нераздельно с
заданием
личного спасения, и тут открываются перспективы безмерной
значительности –
несказанной, которые, однако, сливаются как бы органически с нашим
действенным стоянием
перед Богом, в личном подвиге спасения. <...>
* По тексту «Православный путь» 1971 г., Джорданвилль, типография Иова Почаевского – с сокращениями.